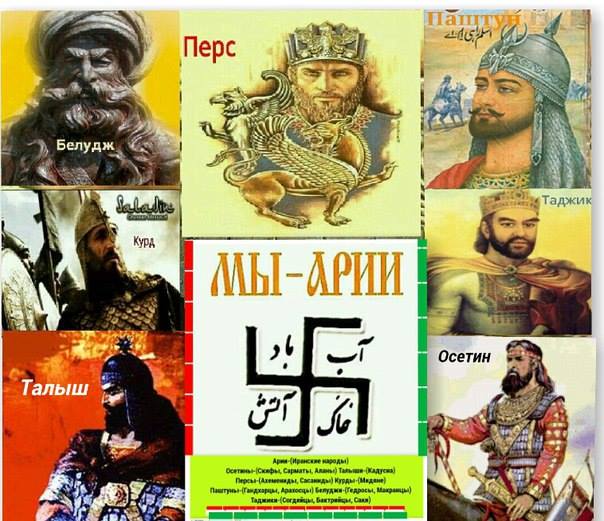«Забытый» основной документ и «забытые» подвижники
Как известно в 505-506 году в Армении при содействии иранских властей прошел Первый Двинской церковный собор, на котором присутствовали иерархи армянской, албанской и грузинской церквей. На тот момент главным богослужебными языками в Армении были греческий и сирийский (арамейский).
Именно на этих языках, а также на государственном — персидском и проходит Первый Двинский собор. Тем более, что не грузины, не албанцы армянского языка в основной своей массе не знали однако все образованные церковные люди Грузии и Албании знали и персидский, и арамейский и греческий.
Из принятых Первым Двинским собором документов сохранилось лишь 1-е «Послание армян к православным в Персии», написанное армянским католикосом Бабгеном I в ответ на обращение епископом Симеона Бет-Аршамского. Призывая армян оказать помощь христианам в Персии, преследуемым несторианами, епископ Симеон просил армянского католикоса опровергнуть утверждение несториан, будто армяне, греки, грузины и албанцы придерживались единого с ними вероучения. Бабген I подтвердил от имени собора, что армянская церковь отрицает и анафематствует учение Нестория. Армянские историки утверждают, что послание было составлено по-армянски и по-персидски, однако реально скорее всего его составили только по-персидски (тем более что армянский персы не понимали) , а на армянский документ перевели позже, когда реально была изобретена армянская письменность.
Главным же документом, принятым на Первом Двинском соборе было «Договорное послание», именуемое также «Посланием о вере». Это было вероисповедальное послание византийского императора Зенона (энотикон Зенона), датируемое 482 годом и признающее недействительным осуждавший монофизитство Халкидонский собор 451 года.
Документ «Послания о вере» почему то не сохранился до наших дней. Вот это как раз заставляет еще раз задуматься о достоверности данных армянских историков.
Армянская историография буквально «по полочкам» разложила все события 5-го века, как в политической так и в церковной жизни. В армянской истории, все описано до мельчайших подробностей. О том же Месропе Маштоце составлена красивейшая легенда описывающая все его шаги и мысли едва ли не с стенографической точностью. А вот основной документ едва ли не главного мероприятия определившего судьбу Армении на века вперед не сохранился.
Очень и очень странно… «Случайно» такие документы не пропадают. Просто затем армяне отказались от этого «Послания о вере», как слишком «умеренного», попросту уничтожили все его экземпляры, как «улику». Причем не только в Армении – а по всему миру! И, несмотря на то, что даже не армяне были авторами этого документа, а византийский император.
После этого стоит ли удивляться, что до наших времен чудом дошла лишь одна албанская рукопись – все остальные были уничтожены армянами. И стоит ли также удивляться тому, что армяне «забыли» кто им дал письменность, сочинив «легенду о Месропе Маштоце».
Так или иначе но Первый Двинский собор, осудив Халкидонский собор, по сути, утвердил монофизитскую доктрину для армянской церкви. Однако на момент проведения Первого Двинского собора была надежда на то, что монофизиты все же восторжествуют в Византийской империи. Тем более что некоторые императоры явно шли навстречу монофизитам. Поэтому особой надобности в «своих» книгах и «своей» письменности у армян (у которых напомним и государства к этому времени не существовало, они были под властью Персии) не было – использовали греческие. И так было до 518 г.
Когда же в 518 г. с приходом к власти императора Юстина І в Византийской империи начались гонения на монофизитов – началось «окончательное размежевание» армян с Византией. С этой целью в Армении начали переписываться церковные книги и документы. И вот только тогда возникла потребность в «своем» письменном языке.
Монофизитсво утвердилось не только в Армении. Оно господствовало на тот момент в Эфиопии, где существовало могущественное Аксумское царство и Химьяра (нынешнего Йемена) на юге Аравии, где существовало зависимое от Эфиопии Химьярское царство.
По сути, после Первого Двинского собора оформились два мировых центра монофизитства. Первый Эфиопия и Южная Аравия и второй – Армения. И первое время межу ними из-за географической удаленности особой связи не было.
Однако вскоре в Южной Аравии начались события, которые, по сути, но поставили под угрозу существование здесь христианства, а с другой «поневоле» установили на время «тесную духовную связь» между Эфиопией и Арменией.
К власти в Химьярском государстве, занимавшем территорию нынешнего Йемена и юга Аравии в 515 г. пришел Зу Нувас, который сверг и убил прежнего химьярского царя Мадикариба Зу Шанатира – союзника и ставленника царей Эфиопии (Аксума), поддерживавшего монофизитское христианство. Отец Зу Нуваса был из химьярской царской семьи, а мать иудейкой.
Зу Нувас принял иудаизм (религию своей матери) и стал его агрессивно насаждать среди подданных, начав страшные гонения на химьярских христиан, как на местных арабов, так и на проживающих здесь эфиопов. Были убиты масса священников, монахов, простых христиан. Православная церковь, например, до сегодняшнего дня чтит святого мученика Арефу и жителей города Наджрана, которые были убиты за отказ отречься от христианства и принять иудаизм. В 523 году Зу Нувас вероломно захватил христианский город Наджран (находится сегодня на границе Саудовской Аравии и Йемена), после чего всех жителей стали подводить к специально вырытым рвам, наполненным горящей смолой, всех, кто отказывался принимать иудаизм, бросали в них живьем (память 4300 мучеников Наджранских Православная церковь отмечает 24 октября). Об мученичестве жителей Наджрана есть также упоминание в Коране («люди рва»).
Спасаясь от Зу Нуваса из Йемена и Южной Аравии устремился поток беженцев. По двум основным направлениям: через море в Эфиопию и на север. Однако переплыть море в те времена было не так-то просто, тем более что все приморские порты контролировали верные Зу Нувасу войска и попросту убивали всех христиан, которые пытались бежать в Африку, в особенности эфиопов. В итоге значительная часть христиан из Химьяра бежала на север – через Мекку в пределы Византийской Империи и Ирана.
Но и здесь для них было все совсем не просто. После того как к власти Византии в 518 году пришел император Юстин І который начал преследовать монофизитов и – беженцы-монофизиты устремились из самой Византии в другие страны. Соответственно беженцам из Южной Аравии, убежденным монофизитам, рассчитывать на «терпимость» к своей вере во владениях Юстина не приходилось. Им приходилось бежать дальше, туда, где господствовало монофизитство. А такой страной была поблизости только Армения.
Что же касается Ирана то здесь на тот момент устанавливала свои гнусные порядки (включая «обобществление жен») манихейская секта Маздака, враждебно относящаяся к христианам.
В итоге получилось, что на время Армении, которая хоть и входила в состав иранской державы, но пользовалась определенным самоуправлением и религиозной «автономией», стала прибежищем для гонимых монофизитов, в первую очередь из Химьяра. Значительная часть беженцев были священники и монахи, которые привезли с собой книги на распространенном в тем времена в Аксуме и Химьяре древнеэфиопском языке геэз, написанные, естественно, эфиопским письмом.
Поскольку армянские церковные иерархи «в пику» императору Юстину I при покровительстве иранских властей вовсю утверждали монофизитскую доктрину, то грамотные эфиопские и йеменские священники и монахи – убежденные монофизиты – им были как никогда кстати. Тем более что на то время в Армении грамотных людей было очень мало, и страна была по сравнению с Южной Аравией, где высокая культура существовала уже полторы тысячи лет, действительно была «дикой и варварской».
Образованные люди, хорошо знающие Священное Писание были очень востребованы, также для того чтобы упрочить власть армянских церковных иерархов среди простого народа. Ведь они всерьез опасались, что антимонофизитские настроения из Византии перекинутся и на Армению. Поэтому им крайне нужды были монахи и священники, которые могли бы утвердить в монофизитской ереси армянское население.
Однако трудность заключалась в том, что проповедовать монофизитские идеи и объяснять их нужно было среди простого народа, который плохо знал господствующее церковной сфере греческий и арамейский языки. Так же плохо владели этими языками и беженцы из Йемена, которым в принципе все равно было какой «иностранный» язык учить на новом месте. Поэтому они учили армянский язык и начали записывать армянские слова теми буквами, к которым привыкли, т.е. эфиопскими.
Так примерно в 20-30-х годах 6 века и возникла армянская письменность – ее фактически создали образованные люди из Йемена, знавшие древнеэфиопский язык геэз и древнеэфиопскую грамотность. Для тех звуков, для которых в эфиопском алфавите не было соответствующих изображений, были использованы албанские, грузинские или греческие буквы. Вот так возник армянский алфавит в дальнейшем приписанный армянскими историками Месропу Маштоцу.
Что же стало затем эфиопскими и йеменскими беженцами в Армении? По-видимому какая-то часть их осталась в Армении навсегда (современные антропологи находят в некоторых группах армян эфиопскую примесь). Понятно, что искушенные в интригах и присвоении армянские церковные иерархи полностью «использовали» их труды, присвоив их себе и Месропу Маштоцу. Миф о котором составили позднее, и не только не вознаградив подвижников, но и предав их имена забвению. Как умеют сознательно «забывать» армяне то, что без злого умысла «забыть» просто невозможно мы прекрасно видим по «забытом» основному документу Первого Двинского собора.
Большая же часть беженцев, которая имела возможность столкнуться с «гостеприимством» хайского народа, среди холодных северных нагорий тосковала по далекой теплой родине. Тем более что, судя по всему, армянские церковные иерархи вовсю заразились не только монофизитской ересью, но и учением Маздака, господствовавшем в начале 6 века в Иране. И оставаясь формально «христианами» пустились в самый разнузданный разврат (возможно «обобществление» чужих жен им тоже нравилось, как и маздакитам). А ведь бежали в а Армению, напомним, люди глубоко верующие, и они бежали, как им казалось, в страну благочестивых христиан. Поэтому разочарование было огромным.
И как только появилась возможность вернуться на родину – химьяриты и эфиопы постарались это сделать. Тем более что гонитель христиан Зу Нувас в 525 году был убит эфиопами (войсками Аксумского царства) и страна вновь попала под эфиопское влияние. Эфиопские правители восстановили в стране христианство и назначили своего ставленника на престол Химьяра.
К сожалению в дальнейшем христианство в Южной Аравии так и не смогла оправиться от того страшного разгрома, который учинил ей Зу Нувас, тем более что ей пришлось позднее пережить и персидское нашествие. В итоге документов христианской эпохи описывающих жизнь в Йемене практически не сохранилась. И при этом армянские историки полностью забыли о том благе, которые сделали для их народа выходцы из Йемена. Это, в принципе, типично для такого «благодарного» народа как хаи.
Напомним, что любой грузин знает историю 13 сирийских отцов (Иоанне Зедазнийском и его 12 учениках), которые пришли в Грузию в 6 веке и заложили в стране основы монашеской жизни. До этого в Грузии не было монастырей. И грузины не считают зазорным быть благодарными сирийцам за то, что они научили их основам монашеской жизни, и не приписывают основанные ими монастыри грузинам.
Странно – почему никто в Армении не рассказывает про «йеменских» или «эфиопских отцов» точно, так как в Грузии рассказывают о сирийских отцах? Почему армянские историки, везде прославляющие армян, не оставили даже упоминания о людях, которые дали их народу письменность?
Кстати, история с сирийскими отцами подтверждает сведения многих историков, что соседняя с Грузией Армения на тот момент была еще «дикой» страной, где реально не было монастырей (как центров грамотности) и монашества. Ведь если бы, как пишут сейчас армянские историки, тогда в Армении процветали монастыри, то грузинам не надо было ждать сирийцев для того, чтобы организовать свои монастыри. Достаточно было пригласить монахов-подвижников из соседней Армении.
Но как видно приглашать-то было особо некого. Подвижников-то среди армян особо не было. Не приглашать же невежественных церковных проходимцев, которые не столько думали о молитве и монашеском подвиге, сколько о том, чтобы занять «выгодную» епископскую кафедру. Хотя, как мы помним, армянская церковь всячески пыталась подчинить грузинскую церковь своему духовному влиянию, а легче это было сделать через монастыри.
Факт того, что для организации монастырей грузинам пришлось ждать далеких сирийцев, а не рядом живущих с ними армян, красноречиво говорит о том, что на начало 6 века в Армении не было монашеской жизни, а были лишь интриги церковных сановников, впавших в монофизитскую ересь. Которые в условиях отсутствия в Армении в 428 года царской власти пытались взять на себя не только бразды духовного владения, но и политического. Для этого они просто использовали в своих целях ум, талант и духовные порывы йеменских и эфиопских беженцев, и даже не сказали им «спасибо».
Понятно, как тяжело было находиться среди такого народа йеменским (химьярским) и эфиопским подвижникам, которые думали встретить здесь единоверцев, а нашли лишь формальных христиан погруженных во всевозможные пороки и невежество. И нигде в истории не найдете вы свидетельств о той помощи армянской церкви, которую оказали ей эфиопы и йеменцы. Все приписано только армянам, причем армяне имеют наглость не только забыть кто реально научил их грамоте, но присваивают своему мифическому кумиру Месропу Маштоцу то, что он никогда не совершал – «сочинение письменности» для грузин, албанцев и даже эфиопов, у которых письменность была как минимум с 9 века до нашей эры.
Получается армяне попросту «украли» письменность у эфиопов, воспользовавшись бедственным положением эфиопских и йеменских беженцев у себя в стране, и не только «забыв» их даже поблагодарить за их труды и подвиги, но даже сознательно «вытравив» из истории память о них. В отличие от грузин, которые до сих пор с благоговением и благодарностью чтят память 13-ти сирийских отцов, давших Грузинской церкви пример монашеской жизни.